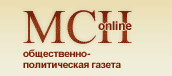На талант налатан
Авторами довольно любопытного сборника стали бишкекчане Талант Джолдошбеков и Михаил Рогожин.
При первом же взгляде на книгу я вспомнил: народный поэт Кыргызстана Анатай Омурканов ранее издал собственный двухтомник избранных произведений, на красивой обложке которого начертано только Анатай. Что ж, Омурканов широко известен в стране и за рубежом, его песни поют, его стихи знают. Он, как говорят, уже ушел в народ и имеет право числить себя просто Анатаем, как Токтогул или Пушкин. Тем, кто их любит, достаточно фамилии, ставшей своеобразным именем.
Вот почему мелькнуло: обложка книги Джолдошбекова и Рогожина, на которой написано только Талант и только Михаил, отдает деланной претенциозностью, стремлением к эпатажу. Конечно, понятно желание авторов уйти от былой “братской могилы” — книжной формы подачи произведений нескольких человек под единой обложкой. Вот они и сделали книгу–перевертыш: половину составили произведения Таланта Джолдошбекова, другую — Михаила Рогожина. В принципе, это не их ноу–хау, аналоги издания были. Так что мое первоначальное впечатление от намека на авторскую оригинальность ушло к осознанию некой вторичности. Это что касается собственно “упаковки”.
В творчестве Таланта Джолдошбекова, которого местная пресса уже смело называет известным (кому? Чем? Если количеством публикаций, то ведь это явно не одно и то же), сразу настораживает смелость, с которой он озаглавливает буквально каждое свое стихотворение. В итоге создается ощущение какой–то изначальной заданности, схематичности творчества, которые, в общем–то, чужды природе поэзии. “Свет”, “Счастье”, “Любовь”, “Тоска”, “Скука”, “Пробужденье”, “Душа”, “Поэт”, “Профессия”, “Родина”, “Подарок”, “Ностальгия” и т. п. — буквально весь раздел “Оглавление” (за исключением единственного четверостишия “Любви моей печальная история”) пестрит этаким названием–списком разных тем, на которых отметился автор. Вот, скажем, стихотворение “Любовь”. Что нового или непреходящего можно вынести из него?
Заезженные рифмы “любовь — кровь” или, еще хуже, “ливни — жизни” (?), штампованные предутренняя истома, дружеский пир, речи застольные, сыновние достижения, греховные наслаждения, преддверие чудес и т. д. и т. п. И все ради чего? Ради того, чтобы в последних строках констатировать никому не интересное: “И верится, что есть / В пороховницах порох”. Художнического открытия во всем этом банальном наборе чужих непрочувствованных фраз нет никакого. Но автор уже, видимо, уверовал, что он поэт известный, и поставил это сырье в книгу, не заботясь о своем читателе.
Вообще небрежность, порой неряшливость в рифмовке (наг — она, шиповник — школьник, ворочал — морочил, умереть — уберечь и др.), а также использование навязших в зубах “любовь — кровь”, “костер — простер” и пр. невольно выдает неумение Джолдошбекова адекватно, четко и емко передать читателю те, возможно, глубокие чувства, переживания и мысли, которые подвигли его к созданию многих стихотворений.
В итоге он и сам подводит своего лирического героя к признанию: “Никчемное призвание — поэт. / И хорошо, что это не профессия”. Думается все же, призвание поэта совсем иное, никак не никчемное. Просто стихо-
творение у Джолдошбекова вышло, как любил говаривать “дед Сергей” Фиксин, “никчемушнее”. Что ж, со всяким бывает.
В эпоху социализма, в так называемую пору расцвета братских литератур, среди русских переводчиков бытовала шутка: “Не стой на виду, а то переведу”. Переводили (ради хорошего заработка) всех подряд и в больших объемах, нисколько порой не задумываясь о качестве. Теперь видно: громадная часть всего этого — откровенная халтура, практически в глазах русскоязычных читателей дискредитирующая оригинальные достижения и достоинства национальных поэтов. Исключения очень редки. Вот и Джолдошбеков пишет обо всем и много, но это вовсе не достоинство его как поэта. Так что соперничество с русской литературой, как говорится в аннотации, в его книге есть, но оно пока явно не в пользу автора. Не говоря уже о намеках на приобщение читателя к культуре мировой.
Конечно, отраден сам факт выхода в свет книги Джолдошбекова “Полинезия”, тем более в известных наших условиях. Особо греет то, что она принадлежит перу не коренного носителя русского языка, без сомнения, владеющего, как говорится, материалом, темой и идеей. Первопроходцем здесь по праву принято считать светлой памяти Улана Токомбаева — автора ряда замечательных “русских” лирических стихотворений. Любил он блеснуть и в сонетах, особенно в венках сонетов — архисложной чеканной форме, требующей неординарного философского содержания. Свой неповторимый творческий почерк Улан Аалыевич в венках сонетов довел до совершенства. Я в свое время писал об этом: “После прочтения его венка остается ощущение причастности к этакой нетленной поэтической классике, восхищение мастерством автора”. Эти произведения “…стали… личным знаком качества поэта, во многом фокусирующим в себе основные черты его уникального дарования — чеканность строк и строф, многозначность и емкость мыслей и образов, особый музыкальный лад”.
Вслед Улану Токомбаеву пришел другой поэт–кыргыз — Сабырбек Куручбеков, очень ярко проявивший себя в русскоязычной поэзии и тоже принятый в Союз писателей СССР. Выходили во Фрунзе и Бишкеке также книги Асфандияра Булатова, Хаитвая Муслимова, Диаса Устемирова и Александра Пака (Саша, кстати, предпочитал нерифмованные свободные стихи, чувствуя свою несостоятельность в традиционной стихотворной форме). То есть, таким образом, у нас давно сложились и существуют определенные традиции в этом деле и творческая планка ее зачинателей высока. Выходит, всем написанным ниже этой планки сегодня мало кого заинтересуешь. Нынче стоит работать так, чтобы читателю стало ясно: взята новая высота! А в поэзии Таланта Джолдошбекова все просто, четко и однозначно, как в протоколе. Скажу честно: это не мое, когда забыта та самая “езда в Незнаемое”.
В связи с этим остается лишь сожалеть, что нынешнее поколение издающих поэтические книги осталось лишено возможности работать бок о бок с теми, кто мог бы стать для них толковым другом–редактором на стадии рукописного варианта будущего издания. Наверняка та же “Полинезия” Т. Джолдошбекова пришла бы к читателю в ином виде. Более точно и полно отражающем дарование ее автора. Мы упустили, к своему стыду, нашу теперешнюю творческую молодежь, не смогли ей дать даже части того, что знали и умели. Им без нас трудно, да и с нами (теперь) не легче.
Но вот ведь какое дело: стоит перевернуть книгу, как окунаешься совсем в иной мир, причем как стихотворный, так и прозаический. Выходит, не все потеряно в таком формате книжки. И хотя тут также все стихотворения носят свое название, но это как–то оправдывается творческой манерой Михаила Рогожина к следованию современным формальным исканиям Бахыта Кенжеева и иже с ним, позаимствованным у русского раешного стиха, у великого кудесника слова Семена Кирсанова и супер-пупер-передовых западных конструктивистов–модернистов. Это когда привычные стихо-
творные строчки вытягиваются в формальный прозаический блок, зачастую без знаков препинания. Ради Бога, конечно! Главное при этом: что у автора за душой? Тот же Семен Кирсанов, хотя и не гнушался затейливой русской грамматикой с ее знаками препинания, в свое время явил миру и искусству высокие образцы раешника, “райского” стиха, в названии которого изощренному уху слышится немало. Но это так, к слову.
“Тепло твоих ладоней нежно закрывает мои глаза, тонкий абрикосовый шепот твоих волос, миндаль чуть соленых губ.
Мы…
мы стоим в самом начале нашего мира. Еще ничего Н–Е–Б–Ы–Л–О, я знаю, как может быть, но не знаю, что будет в этот раз.
А если?”
Это один из симпатичных образцов прозы Михаила Рогожина. Вот еще: “Белый Свет стоящего времени! Но оно не застыло, оно живет. Живет, но не движется. Это — вечное теперь, существующее всегда. Находишься в нем — его нет. Оно возникает потом, когда на него можно взглянуть со стороны, но теперь это — уже Тогда. Уходит не оно — Мы! — прорастаем сквозь него — жесткие иглы чия, раздвигающие тонкие трещины нежных белых, нагретых солнцем мраморных ступеней” (“Мрамор и Золото”). Тут есть своя мысль, динамика прозы, метафоричность, цепкая образность.
А вот его поэтические строки: “А солнце уже сплетается / с ветром / в движеньях портьер”. Или: “Синдром любви, люмбаго мозжечка, / курок взведен. / В моей крови мистерия щелчка / и стылый звон”. Или: “Осень. Мокрых листьев дуба / цвет и запах в декабре”. Или: “В перфокарты окон сужена / информатика квартир”.
Конечно, в искусстве не должно быть хоженых троп. Михаил Рогожин всем своим творчеством пытается продраться сквозь традиционные и классические “дебри” к своему, я бы так сказал, Миростоянию. Отсюда и неравнозначные интересные его творения, порой тоже полные скорее недоосмысленного “тумана” и красивостей позы, нежели заботы об итоговом обогащении души после их прочтения. Ибо пробиваешься сквозь все это, а потом осознаешь: это тебе ничего не прибавило, душу–то не всколыхнуло. Но умно зело! Не отнимешь.
Словом, местами у Михаила Рогожина все это хорошо, но когда в больших количествах, да еще “на тему”, под заглавие, то минусов больше, нежели плюсов. И вот почему. Собственные, вроде яркие, формальные поиски новизны оборачиваются своей же рутиной — той же набитостью руки и желанием эпатажа. А ведь хрестоматийно: всякое поэтическое содержание хорошо только в своей поэтической форме. Руку тут набить нельзя. Каждое творение должно быть неповторимо. То есть поиск не отменяется, наоборот, он у Рогожина, думается, как раз весь впереди.
Вот таков он — сборник М. Рогожина “Вероятностная модель медитации”, который (вышло так!) на талант налатан (это мой палиндромон по случаю, фраза, читающаяся одинаково слева направо и наоборот).
Александр НИКИТЕНКО.
Фото Владимира ВОРОНИНА.
Адрес материала: //msn.kg/ru/news/17051/