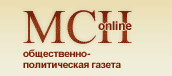Прогулка с Усубалиевым
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ НАРОДА — СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Про воду Кыргызстана, про рукотворные каналы, продуманной системой охватившие всю землю республики, мой собеседник однажды, с едва сдерживаемой страстью, сказал так: “Вода — это жизнь. Это не банальная фраза, вдумайтесь в ее глубинную суть… Наши города, села, долины расцвели именно благодаря разумному и продуманному использованию воды, которой так щедры наши горы. Строительство водохранилищ, каналов, арыков велось не одно десятилетие, но та ирригационная система, которую мы создали у себя, поистине уникальна и всемогуща”.
Эти его слова запомнились именно потому, что были особенно горячи и особенно эмоциональны на фоне того нашего разговора. И вот оказалось, что сказаны они были буквально провидчески, накануне июльских стихийных бедствий — мощных наводнений, селевых потоков, обрушившихся в том числе и на город Бишкек. А что же со всемогущей ирригационной системой? Почему она не сработала?
— Турдакун Усубалиевич, природные стихии наверняка и в годы вашего руководства республикой испытывали людей? Но ощущения опасности, какое возникло сейчас у бишкекчан, в частности, кажется, тогда не было?
— Еще как испытывали… Но сначала я вас поправлю: не будь у нас тех ирригационных систем, которые мы построили, могло бы произойти непоправимое. Но системы устояли. Другое дело, что в отдельных районах к дренажным системам, к арычной сети относятся, мягко говоря, наплевательски. Разрушают их, не следят за их состоянием, строят на проблемных территориях какие–то новые объекты, не принимая во внимание тот факт, что в низовьях Чуйской долины подпочвенные воды очень близко подходят к поверхности и это обязывает людей принимать особые меры, которые мы и принимали, благодаря чему население долины на долгие десятилетия забыло, что такое подтопы, наводнения, сели… Теперь люди с ужасом снова вспоминают об этом.
… Первым секретарем Фрунзенского горкома партии меня избрали в феврале 1958 года, а уже в июле следующего пришлось столкнуться с первой стихией и ее суровым нравом.
Стояла сильная жара. Ночью, примерно в 2 часа, в моей квартире раздался телефонный звонок. Поднимаю трубку и слышу: “Товарищ Усубалиев, с вами говорит председатель Таш–Мойнокского сельсовета, вода прорвала плотину в Волчьем ущелье, мощные водяные потоки пошли на город. Спасайте его…”. И повесил трубку. Июль. Все в отпусках, командировках, на дачах. Как тогда говорили, “на хозяйстве” остался только Деменчук, заместитель председателя Совета Министров республики. Через два часа мы были с ним в районе реки Аламедин. Потом подъехали руководители горисполкома. То, что мы увидели, было страшно: по руслу реки неслись мощные водные потоки, снося на своем пути все, что только попадалось. Город в то время за железнодорожную ветку еще не перебрался, и там были пустыри, которые только начали осваивать под индивидуальные застройки. Люди, разбуженные гулом воды, хватали детей и бежали спасаться в центр города. Вода еще шла по руслу, но готова была выплеснуться в любую минуту, и мы старались укрепить берега всем, чем могли, — тракторами, грузовыми машинами, камнями… И хотя водой было все–таки разрушено немало объектов, жертв удалось избежать, а на следующий день вся вода из водохранилища уже переместилась в Большой Чуйский канал, затем в реку Чу.
Материальный ущерб был большой. Но надо было думать о завтрашнем дне, и я поехал на останки плотины. И что же это была за плотина? Воистину это было “удивительное” творение водников: особенно не размышляя, они, оказывается, “построили” самую дешевую плотину, какую только можно было, перекрыв узкую горловину ущелья — а это был скальный каньон — рваными камнями. В верховьях ущелья вода и скапливалась. Жара усилила таяние ледников и снега, чаша водохранилища переполнилась и, разумеется, камни ее напора не выдержали. То есть по сути дела водники своими собственными руками занесли над столицей водяной дамоклов меч. И это при всем том, что и без их вмешательства горные реки Аламедин и Ала–Арча представляли большую угрозу для города, регулярно “обеспечивая” его паводками, наводнениями, селевыми потоками… Надо было укреплять берега. Но чем? Курментинский цементный завод — один в республике — производил в год 28 тысяч тонн цемента, и те уходили на нужды народного хозяйствами, как говорится, с лету.
— Но надо было укреплять берега немедленно, не так ли? А чем?
— Решили камнями–валунами, которые стали завозить из поймы реки Иссык–Ата и брать в пойме реки Ала–Арча. Все самосвалы и автокраны, которые были в городе, бросили на укрепление берегов. Помните те камни в районе ТЭЦ, от моста на реке Аламедин к северу? Их оставили как память о наводнении в 1959 году.
— Через два года после этих событий вы стали руководителем республики.
— И на эту проблему уже мог посмотреть с другой точки зрения. 85 процентов всей территории Кыргызстана составляют мощные горные хребты. Столица расположена прямо у подножия гор, и эти две реки, о которых я уже сказал, представляли для нее большую опасность. Начав в 60–е годы, в 70–е мы закончили “одевать” берега рек в железобетонные конструкции. Это что–то больше 100 километров. На реках построили плотины, водозаборные сооружения, каналы, мосты. Они прочно сдерживают сильный напор селевых потоков. Именно они и спасли город в июле нынешнего, 2003, года от наводнения.
— С Таш–Мойноком у вас связано еще одно воспоминание…
— Да. И оно опять касается непродуманных действий водников. Представьте себе, они хотели заполнить стоком реки Аламедин естественную горную чашу, чтобы затем Чуйская долина постоянно получала поливную воду. Благое намерение, казалось бы… Эта чаша расположена на высоте до 500 метров на склоне гор Ала–Тоо, и если бы собранная в ней вода однажды прорвала плотину, то ее сотни миллионов кубов просто снесли бы нашу столицу с лица земли. Плотина могла прорваться уже хотя бы потому, что столица расположена в сейсмоопасной зоне, и никто из нас не мог сказать, когда произойдет то страшное землетрясение (теоретически оно возможно всегда), которое сломает конструкции плотины словно спички. Обсуждали вопрос на бюро ЦК. Свои возражения я изложил в записке. Мнение членов бюро ЦК разделилось: одни были за плотину, другие — против. Было решено пригласить специалистов из союзного центра. Они обследовали район и признали наши опасения обоснованными.
Жарко. Август решил наверстать упущенные июлем градусы и развернулся во всю свою силу. Спасает тень от деревьев. И еще ветерок, который нет–нет да и прошелестит по раскаленному асфальту.
— Вот, — говорит мой собеседник, — это и есть разумная планировка города. Она напоминает шахматную доску, по которой ветры с гор могут прогуливаться свободно. Зеленеют деревья, журчит в арыках вода, дует ветерок — вот в чем еще красота нашего города, позволяющая не пугаться жары, а спокойно принимать ее. Арычная сеть в городе — это несколько десятков тысяч километров, облицованных бетоном. Вода в арыки идет из южной ветки Большого Чуйского канала объемом 5 кубов в секунду. Вот этот быстроток и есть тот самый канал… Планировалось, что чистую воду из него население будет брать также и на бытовые нужды…
— Но он не достроен?
— Не достроен. Именно не достроен. Для подсоединения его к реке Аламедин оставалось проложить всего 300 метров, канал дошел до улицы Советской, до “южных ворот” города, но наступил 1985 год, год перестройки, и все замерло. Это просто ирония какая–то: слово “перестройка” повторяли так часто, что, видимо, собственно на строительство уже не оставалось времени. Не знаю, что перестроили, но не достроили очень многое, в том числе и этот канал. 18 лет он стоит как незавершенный объект. В результате многие посадки в городе лишены поливной воды, а люди страдают от жары.
— Никому нет до него дела и сегодня?
— Получается, что нет.
— Турдакун Усубалиевич, а что с рекой Чу? С ней, говорят, особенно много было проблем…
— Много. Летом она наносила вред долине, затапливая, в частности, город Токмак. Еще в 1940 году Совет Министров СССР, намереваясь зарегулировать ее, принял постановление о строительстве Орто–Токойского водохранилища и БЧК. Но началась война. Канал строили люди, в основном это были женщины и мужчины, не подлежащие призыву на фронт, приходили туда с лопатами и тачками — сохранились фотографии о том строительстве. За водохранилище взялись после войны. В 1960 году оно заработало. Но первая плотина была земляной, и в конце 70–х создалась угроза затопления многих населенных пунктов Чуйской долины. Не трудно было представить себе ужасные последствия прорыва 500 миллионов кубов воды! Пошли на временную меру: в плотину забили множество металлических труб и наполнили их бетоном, отремонтировали водовыпускающий тоннель. Часть воды идет из этого водохранилища в Казахстан. Чтобы при этом не заливалась северная часть Токмака, мы построили 18–километровый бетонный канал. Магистральная объездная дорога также ограждает город от возможных наводнений реки Чу. Но прочность существующей плотины была рассчитана только на 7 баллов возможного землетрясения. Было принято решение заменить всю плотину на бетонную. Но и тут я вынужден вновь сказать о том, что началась эпоха перестройки и про плотину уже никто не вспоминал. Хорошо, что мы успели к тому времени зарегулировать такие реки, как Иссык–Ата, Ак–Суу, Кара–Балта и многие другие, построили Нижне–Ала–Арчинское, Верхне–Ала–Арчинское, Сокулукское и другие водохранилища, иначе бы их не было и поныне.
— Вы медленно, но верно подбирались к строительству таких гидроэнергетических гигантов, как Токтогульская, Курпсайская, Таш–Кумырская, Шамалды–Сайская, Учкурганская ГЭС? В этом ряду стоит и Папанское водохранилище в Таласе…
— Делалось это еще и для того, чтобы остановить сезонные затопления не только своей территории, но и территорий соседних государств — Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Почти 50 процентов пресноводных ресурсов Центральной Азии формируется в наших горах, но неуправляемые реки, которые поят города и поля соседних республик, в жаркое время года затопляли их. На ликвидацию тяжелых последствий наводнений затрачивались каждый раз миллиарды советских рублей. Мы пошли на то, чтобы занять накопительными водохранилищами до полусотни тысяч гектаров плодородных земель.
— Наши соседи благодарны нам за это?
— Жогорку Кенеш принял Закон “О межгосударственном использовании водных объектов, водных ресурсов и водохозяйственных сооружений Кыргызской Республики”. Там, в частности, речь идет о том, что в наших водохранилищах ежегодно накапливается 23 миллиарда кубов воды, более 80 процентов которой бесплатно подается соседям. В советский период Кыргызстан ежегодно же получал из федерального бюджета определенную материально–техническую и финансовую помощь в эксплуатации межгосударственных узлов, которые мы поддерживали в надежном техническом состоянии. Теперь выполнять эту работу приходится почему–то нам одним. Хотя если что–то случится (а теоретически, повторю, в условиях высокой сейсмики все возможно), то эта проблема коснется не только нас одних. Долю затрат должны взять на себя соседние государства…
— Но не берут, не так ли? Мы сегодня часто вспоминаем о сейсмологической опасности нашего края (тьфу, тьфу, чтоб воспоминание об этом не спугнуло покой недр), насколько наша столица готова к жизни в таких условиях?
— Когда в 1966 году в Ташкенте произошло землетрясение большой разрушительной силы, это потрясло нас, руководителей Кыргызстана: а готовы ли мы к тому, если нечто подобное произойдет у нас? Оказалось, что не готовы. Нашу территорию тоже потряхивало. Но мы тогда и не знали, что находимся в зоне высокой сейсмики, потому что никаких исследований не проводилось. Сидеть в таких обстоятельствах сложа руки было равносильно преступлению против своего народа. В первую очередь обратили внимание на соблюдение норм строительства в республике. Оказалось, что гражданское и производственное строительство велось у нас вслепую. Был немедленно создан научно–исследовательский институт сейсмологии и сейсмостойкого строительства в составе АН. Институт разработал сейсмологическую карту всей территории. Для него средства не жалелись — появилось и нужное оборудование, и квалифицированные кадры. Как показали исследования, практически вся территория республики находится в зоне возможных 8—9–балльных землетрясений. Начиная с 70–х годов прошлого века в республике все многоэтажные жилые дома, производственные и социально–культурные объекты, крупные ирригационные сооружения возводятся с учетом этих данных. Для того, чтобы население было вовремя оповещено о начале землетрясения, в Ала–Арчинском ущелье в 30–метровой штольне в горе была установлена сейсмическая аппаратура, регистрирующая колебания земной коры. Работает ли эта станция сейчас — мне не известно.
— Кыргызстан долгое время работал с ураном. Теперь это производство если и есть, то не имеет былых масштабов, однако опасные отходы остались на нашей территории, и при том, что она подвержена землетрясениям, возможны всякие варианты…
— Вы знаете, что мною был подготовлен проект обращения Законодательного собрания Жогорку Кенеша к президентам и парламентам СНГ, к ООН, к Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ), Всемирному банку об угрозе глобального загрязнения Центральной Азии радиоактивными отходами уранового производства. Там я, в частности, вспоминаю о том, что побудительным мотивом для тогдашней нашей страны к разработке уранового сырья стал вызов военных США, которые после бомбежки Хиросимы и Нагасаки разработали план нанесения атомного бомбового удара по двадцати городам СССР: Москве, Казани, Ленинграду, Баку, Горькому, Куйбышеву, Свердловску, Новосибирску, Омску, Саратову, Ташкенту, Челябинску, Нижнему Новгороду, Магнитогорску, Перми, Тбилиси, Новокузнецку, Грозному, Иркутску, Ярославлю. На то был приказ президента США Трумэна. И вот тогда первую урановую руду стране дал Кыргызстан. В начале 50–х годов были открыты урановые месторождения в Мин–Куше, в Каджи–Сае, в Майлуу–Суу, Сумсарско–Шакафтарское. На их базе был создан горнорудный комбинат, который более 40 лет перерабатывал радиоактивное сырье для обороны и энергетики страны. За это время в хвостохранилищах накопилось огромное количество радиоактивных отходов, отвалов горных пород и кондиционных руд. В республике площадь земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению, составляет 6,5 тысячи гектаров, на них складировано 145 миллионов тонн радиоактивных отходов уранового производства. Урановые месторождения у нас не разрабатываются с 60–х годов — этого мы все–таки добились, хотя и с большим трудом, но переработка шла, и надо было постоянно следить за состоянием хвостохранилищ. Сегодня Кыргызстан не имеет для этого материально–финансовых и технических ресурсов…
Что может послужить началом экологической катастрофы: землетрясения или ливневые и селевые потоки — неизвестно. Но вероятность такой опасности совершенно очевидна. Сход отходов в жилые массивы, бассейны рек и озер Центральной Азии, к сожалению, реален. В своем письме я предлагаю те меры, которые необходимо принять. Но на это нужны средства. Многие международные организации с пониманием отнеслись к этой проблеме и уже помогают нам.
— В программу обеспечения безопасности народа, насколько мне известно, вы также включаете необходимость специальной охраны крупнейших межгосударственных водохозяйственных объектов, имеющих стратегическое значение, для чего нам необходима поддержка соседей… Вы также обеспокоены судьбой Иссык–Куля, который мелеет из–за того, что уменьшаются объемы ледников, окружающих озер, и происходит это прежде всего потому, что на десятках тепловых станций Центральной Азии сжигаются миллионы и миллионы тонн минерального топлива… То есть все эти задачи решать все–таки нужно в общемировом масштабе и прежде всего в союзе с соседями?
— Именно в такой работе я и принимаю активное участие, готовлю доклады, с которыми выступил уже на саммите, посвященном Международному году гор, в Бишкеке в 2002 году, в Алматы на международном семинаре Азиатского форума парламентариев по народонаселению и развитию, состою в переписке с людьми, занимающимися этими проблемами, словом, делаю все, что могу.
С большой теплотой вспоминаю тот давний ночной звонок из Таш–Мойнока: если бы каждый из нас ответственно подходил к проблемам среды обитания, то человечество смогло бы избежать многих бед.
Анастасия БАХТИНА.
Адрес материала: //msn.kg/ru/news/4852/