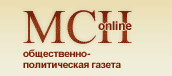О рядовых войны. Без маршалов, политики, врагов
Сначала их было много. Особенно бросались в глаза инвалиды. Помню одного без обеих ног. Он передвигался на тележке с колесиками, которую смастерил сам. На руки надевал брезентовые перчатки и, отталкиваясь ими от земли, довольно быстро катил. Те, кому повезло, кто остался “всего лишь” без одной ноги, передвигались на грубых, вытесанных из цельного бревна култышках. Они крепко привязывали их ремнями к остаткам ноги и шли, оставляя на земле два следа — подошвы и вмятину от култышки. Ходили бодро, курили крепкий табак, много смеялись. И только дома, отвязывая свою искусственную ногу, растирая мятые, окровавленные культи свои, плакали или матерились. Это было сильное поколение. Люди, пришедшие с войны, сами строили свои новые дома, поднимали детей и с легкостью необыкновенной относились к военным своим наградам. В этих медалях и орденах, увешанные сплошь, бегали мы, дети. При этом какая-нибудь медаль, например, за взятие Берлина ценилась нами куда выше ордена. Она, как нам казалось, была красивее уже тем, что на бегу раскачивалась и, поворачиваясь на солнце, сверкала. Потом медали поблекли и исчезли куда-то. Наши родители вспомнили о них спустя тридцать лет. Их скромные пиджаки явно проигрывали на фоне новых пиджаков более молодых “ветеранов”, неведомо откуда взявшихся. У молодых “ветеранов” медали и ордена сверкали, как новые. Помню перебранку родителей, когда отец решил надеть все свои награды. “Где они?” — вопрошал он у матери, которая отличалась тем, что сохраняла даже самую маленькую бечевку, а вдруг пригодится. На что мама, сдерживая эмоции, отвечала: “Я тебе когда еще говорила — не давай их детям, вот теперь сам и ищи, где они”.
Особенно много инвалидов собиралось на базаре — центре тогдашнего города Кара-Балта. Их тянуло на люди. Они еще не поняли, что до них, в общем-то, никому нет дела. Наверное, сначала их чествовали, обнимали, благодарили. Потом к ним привыкли. Они растягивали меха гармоней и пели надрывные песни. Потом возле их ног появились фуражки, лежащие вверх дном, и туда стали бросать копейки. Слепых сначала водили жены, а потом дети. Они тоже пели, слепо поводя невидящими глазами. Они ходили в своих военных гимнастерках, а зимой в шинелях. Гимнастерки и шинели постепенно снашивались, но переодеться им было не во что. Страна жила трудно. Трудно было всем. Им — особенно.
На базар иногда вывозили бывших солдат, лишившихся рук и ног. Они лежали молча, посверкивая еще совсем молодыми глазами. Крупная голова крепко сидела на крупной шее, уходящей в крупный торс, но ни ног, ни рук не было.
Инвалиды спивались, скандалили, плакали, бранились. Потом их становилось все меньше и меньше. Уходили в небытие никем не записанные их воспоминания о войне. На смену им пришло военное кино. Хорошее кино. Насмотревшись “про войну”, мы стали играть в “войнушку”. Иногда при этом надолго застревая возле какого-нибудь ветерана войны, присевшего покурить. Он начинал нам рассказывать про свою войну. Но она не была цветной, в ней наши погибали, а не побеждали, как в фильмах, наши герои из кино были красивыми, молодыми, хорошо одетыми, а сосед-фронтовик был в фуфайке, курил самокрутки, пил самогонку и гонял свою жену по улице, нещадно ее браня. Поэтому мы вежливо и осторожно отодвигались от него и его воспоминаний и бежали играть в свою войну, с вдохновением колотя пойманных “немцев” и старательно обвязывая материнскими платками свои “боевые” ранения. В “немцах” у нас ходили самые слабые или недавно переселившиеся на улицу. Стать своим, русским человеком им можно было, только особенно выделившись на фоне тогдашней многочисленной ребятни. Русскими солдатами в то время были все — дети кыргызов, немцев, украинцев и прочих национальностей, которыми была в то время заселена вся страна.
В фильмах немцы были совсем другими — подтянутыми, красивыми, в красивой форме, курили красивые же сигареты и дарили дамам цветы. Моей первой тайной любовью стал именно немецкий офицер. Не какой-то конкретный герой, а собирательный образ. Немцы казались мне настоящими мужчинами, которых в наших окрестностях, на мой взгляд, не водилось вовсе. С этого момента мне стало жалко и наших “немцев”. И одного пленного, запертого для особого унижения в только что освободившемся от свиней катухе, я выпустила на свободу. Меня судили судом “партизанов”, а лучшая подруга тогда выдала мою главную тайну — любовь к немецким офицерам. “Русские солдаты” были потрясены моим вероломством и отлучили меня от сражений за родину. Но на следующий год оказалось, что мы уже выросли из войны и нас ждали другие приключения.
Спустя много лет я по воле судьбы оказалась в Германии, в самом дальнем ее западном уголке, и там встретила ветерана войны, увешанного немецкими наградами. Он был одет небрежно — в поношенные штаны и рваный пиджак. Вспомнив наших ветеранов, я сжалась от жалости: и он тоже перебивается с копейки на копейку?! Старик был отнюдь не высок, не строен и не красив. В нем, немце, не было ровным счетом ничего от моего, киношного немца. И это меня немного разочаровало. Успокоило затем только то, что он был в юности не офицером, а рядовым солдатом. С трудом подбирая немецкие слова, здороваюсь с ним и пытаюсь поговорить. Оказалось, что немец совсем не беден, что старость его вполне обеспечена, а одевается он так, чтобы эпатировать своих рафинированных соотечественников. Эдакий бунтарь, он был этим чем-то очень похож на наших фронтовиков, тех, кого я еще успела застать в детстве. Воевал ли на Восточном фронте? Воевал. Он гордо выпрямляется: вам это не нравится? Да что уж об этом говорить, примирительно подбираю я слова, давно это было, просто и мои родители фронтовики. Старик оживляется: живы? Да. Плохо живут? Нет, говорю, терпимо. Остро чувствую при этом приступ патриотизма. Это дома можно говорить о том, как трудно живется старикам, здесь — нет.
Потом попадаю на “блошиный” рынок и вижу там настоящую немецкую каску. С вмятиной на боку, облупившуюся. Беру в руки, рассматриваю. Рассматриваю так долго, что начинаю раздражать продавцов: русская? Это стоит дорого. Думаю: привезти, что ли, родителям в качестве сувенира? Потом рассказываю им об этом своем намерении. Они недоуменно смотрят на меня: привезла бы — выбросили. Подумалось: интересно, о чем бы теперь могли поговорить эти старики, немец и мои? И смогли бы?
Невольно вспоминаю монолог одного из героев Фейхтвангера, относящийся, правда, к первой мировой войне, но разве не все войны по сути своей есть одно и то же? “До войны мы все думали, что человек труслив. Это был один из многих наших предрассудков. Во время войны мы убедились в обратном. Победить естественную трусость человека совсем не трудно. Надо только знать, как к нему подойти. Приказать построже да вдобавок поднести водки, и он покорно и просто пойдет на смерть. Чего он боится больше смерти — это правды. Тепленькая ложь ему приятна, в нее он кутается, за нее изо всех сил цепляется; с ложью ему труднее расстаться, чем со страхом смерти. Американцы пытались запретить алкоголь, но даже из этого ничего не вышло. Если же отнять у человека душевный хмель, отнять у него такие приятные представления, как свобода, геройство, провидение, гуманность, он встанет на дыбы. Тут он делается коварен, обороняется зубами и когтями. Поколение, прошедшее через империалистическую войну, не может представить себе жизнь без лжи. Что столько миллионов людей погибло по вине нескольких сот хищников, желавших иметь рынки и поправить свои дела, — этой правды они не могут выдержать: им надо одурманивать себя великими словами — “нация”, “демократия”, “свобода”. У твоего отца веские основания не соглашаться с тобой. Кто долго опьянялся такими идеями, тому уж не протрезвиться”.
У моих стариков и у того старика совсем разные правды и абсолютно разные лжи.
Но было, что-то было в наших фронтовиках такое, что, соглашаясь с немецким писателем в принципе, я не могу согласиться с ним полностью. Это некий таинственный русский (сказала бы точнее — азиатский) дух вольности и справедливости. Большинство из них не кричали ни “За Родину!”, ни “За Сталина!”. Они бросались под танки молча, стиснув зубы, за некую таинственную идею, за какую-то особую свободу, которая западным людям, да простят они меня за это, даже не снилась.
Моя мать рассказывала о своей войне как о череде встреченных ею хороших людей. Ее война была чистой, светлой, наполненной исключительно благородными людьми. Потом, став старше и еще старше, и еще, когда она уже стала зависимой от врачей и медсестер, я увидела ее плачущей от бессилия. Медсестра, которая должна была ставить ей капельницу, отвлеклась на свои важные дела и не спешила к моей матери. А мама плакала и вспоминала: когда вывозили с фронта раненых (она была медсестрой на военно-санитарном поезде), то многих из них можно было спасти, продержать до госпиталя только прямым переливанием крови. “Мы, — плача рассказывала мама, — сами едва стоявшие на ногах, ложились рядом с их носилками, и наша кровь напрямую шла к ним. Я видела, как они оживали, приободрялись. Тут не кровь — жидкость мне нужно влить, а ей некогда”. Лишь спустя много лет в ее воспоминаниях о войне появилась грязь, кровь, ужас. Теперь она не вспоминает о ней вовсе.
Отец вспоминает только те эпизоды, когда он волею случая остался жив. Однажды, к примеру, от неизбежной гибели его спасло банальное воспаление легких. Все те, кто был с ним рядом, пока его не увезли в медсанбат, погибли.
А в канун нынешнего Дня Победы город Кара-Балта устроил для моих родителей бриллиантовую свадьбу. Было очень трогательно. Мои родители приосанились и выпрямились. Их глаза засветились давно не виденным мной у них огоньком. Они принимали подарки с достоинством, как вполне ими заслуженные.
Их чествовали и до этого дня, они радовались каждому подарку, включая килограммовый кулек с сахаром. Это щемило мое сердце. Слишком долгие годы, все годы, пока страной нашей правил Акаев, я не могла достойно поддерживать своих стариков. Они привыкли к нехваткам, к тому, что может быть еще хуже, они щедро делились со мной своими ветеранскими пенсиями. И на своей бриллиантовой свадьбе мама, которой уже практически ничего нельзя есть, все сокрушалась о куске мяса, лежащем в ее тарелке, и пыталась накормить им отца, который всячески от этого отказывался, потому что уже был сыт. Они радовались своему празднику, а у меня щемило сердце, когда отец то ли в шутку, то ли всерьез сказал маме: “Вот видишь, как все хорошо, а ты не хотела идти на войну…”.
Теперь их чествуют. А долгие, долгие, долгие годы они были как бы никому, кроме меня, и не нужны. Когда отец лежал в госпитале инвалидов войны на операции, то мне приходилось платить, платить и платить при всем при том, что благодаря Акаеву у меня не было постоянного заработка. Но мне, неимущей, занимали эти деньги добрые люди. Уже почти поднявшись, хотя еще и не окрепнув, отец потребовал финансового отчета. И, услышав цифру, расплакался, как мальчишка.
Нынешний День Победы явно, ощутимо, зримо отличается от предыдущих таких же дней. Чем? А это невозможно передать словами, это чувствуется сердцем, кожей, нервами. Вдруг молодые стали иначе говорить об этом дне, вдруг среди дежурных фраз появилось что-то иное, как бы сопричастное их судьбам. Может быть, потому, что ветеранов той славной войны остается все меньше, меньше и меньше? Уже нет тех рядов, в которых они шли на свой парад. Их мало. Крошечная кучка, небольшая толпа старых, немощных людей, жадно впитывающих каждый глоток ласки, отпускаемой им в эти дни. Наученные жизнью, они знают, что после Девятого мая о них забудут вновь, а пока что, пока — они герои, их любят, их поздравляют, им дарят цветы.
Щемит мое сердце в эти майские дни, щемит оттого, что людям в моей стране слишком долго не было никакой возможности перевести дух, увидеть, что в жизни есть что-то иное, кроме постоянных материальных нехваток. Мне трудно смотреть в открытые глаза стариков: им все еще не верится, что их всегда (заслуженно, а не только по праздникам) будут окружать почетом. Теперь все будет хорошо? Они смотрят на меня, словно дети, я не отвожу глаз: все будет хорошо. Все должно быть хорошо, потому что иначе нельзя. Но, Боже мой, если бы это зависело только от меня…
…Я еще чувствую грубое сукно шинели отца, из которой мать шила мне и брату куртки, чтобы нам было тепло. Еще помню крошечную мазанку, которую они, фронтовики, слепили для себя, еще помню, как считали они копейки, чтобы дотянуть сначала от зарплаты до зарплаты, а потом от пенсии до пенсии. Я еще помню все их парадные одежды, которых было совсем немного. И при этом не устаю поражаться их способности неутраченной радости от проявления любого элементарного человеческого отношения к ним, их вере в то, что Кыргызстан — это лучшая страна в мире, потому что именно здесь после войны они нашли приют для себя и нас, своих детей. Потом, говорят они, когда нас не будет, когда ты останешься здесь одна, неужели ты уедешь из Кыргызстана? И на фоне массовой, все еще повальной миграции из моей страны этот вопрос звучит диссонансом, странно, несовременно. Но они внимательно смотрят на меня, и я не отвожу глаз.
Людмила Жолмухамедова.
Фото Владимира Пирогова.
Адрес материала: //msn.kg/ru/news/13935/