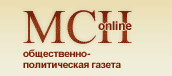Наше солнце не забудешь
Четыре года назад, проводив на столичном вокзале поезд, который повез в Россию гостившего у нас друга, поэта Александра Зайцева, я не предполагал, что судьба вновь подарит нам встречу в Бишкеке.
В Санкт–Петербурге Александр Николаевич живет и активно работает уже более десятка лет. Концы с концами сводить нелегко, но выручают пенсия, сад, огород, домашнее хозяйство. Приходится и подрабатывать охранником.
Конечно, тянет в Бишкек, где прошла, считай, вся сознательная жизнь. Здесь он работал литейщиком, резчиком металла, мастером на сельмашзаводе им. Фрунзе, кормил семью, поднимал детей, занимался любимой поэзией. Первые его поэтические книги вышли именно в нашей зеленой столице. Успел он десять лет назад, до отъезда в Россию, выпустить в свет и избранный сборник своих стихотворений “Огненные комья”. А потом был отъезд “на историческую родину” по сложившимся семейным обстоятельствам. Что ждало его там?
Все пришлось выстраивать вновь: житейские и творческие дела. Работал кочегаром (пенсионер!), сантехником, дворником, садовником… Выручали рабочая цеховая закваска, трезвая голова и золотые руки. Из Лисьего Носа пришлось перебраться в Белоостров, ближе к озеру Разлив и речкам Сестре, Шипучке. Эти края теперь стали родными для него, они живительными истоками питают его нынешнее талантливое творчество большого русского поэта. В Питере Александр Зайцев за эти годы выпустил в свет около десятка поэтических книг, в том числе — последние по времени издания “Обреченная стая”, “Впервые я живу” и “Удивительный потоп” (книга стихов для детей). Его приняли и по–дружески поддержали как равного ведущие питерские поэты, он теперь член Союза писателей России, профессор Международной славянской академии. К стихотворениям, созданным в свое время в Кыргызстане, добавились его многие новые чисто российские произведения, в том числе болевая поэма “Беженец” — о судьбе русских переселенцев. Не сломался наш земляк, не потерялся на великих российских просторах. Наоборот, смог поднять на новую высоту уроки знаменитой фрунзенской — бишкекской поэтической школы, перед которой не раз уважительно снимали шляпу отдельные московские мэтры. Без преувеличения можно сказать, что Александр Зайцев, как никто другой из моих земляков, смог воплотить в этой поэме судьбоносные переломы в жизни многих людей. Поэма “Беженец” — его яркий вклад в русскую поэзию времен парада суверенитетов.
Вот почему особо отрадно читать “Послесловие” к книге Зайцева “Обреченная стая”, которое проникновенно составил нынешний друг Александра Николаевича, известный русский поэт Андрей Романов. “Творчество Александра Зайцева, — пишет он, — неподвластно поверхностной оценке. Упругие строки, прописанные с высоким профессиональным мастерством, выстраиваются в стихотворения, за которыми, при внимательном прочтении, просматривается глубина, свойственная лишь истинной поэзии. Три его новые поэмы (“Беженец”, “Водяной террорист”, “Вокруг свалки”. — Авт.) заставляют читателя переосмыслить все происшедшее с нашим обществом за последние полтора десятилетия. И ответ поэта далеко не однозначен, потому что новая встреча с обновленной Родиной не сулит ни молочных рек, ни кисельных берегов. Внутренний мир А.Зайцева, напротив, богат и разнообразен. Творческие годы, проведенные в Питере после отъезда из Киргизии, насытили его поэзию новыми образами и открытиями, неожиданными для искушенного невского читателя. От книги к книге Александр Зайцев, выпускник Литинститута, утверждает свое имя в студеной поэзии Санкт–Петербурга, не подвластной ни провинциальному кавалерийскому наскоку, ни умозрительной философичности, некой “школы”, названной почему–то “петербургской” и которая не имеет никакого отношения к нашему гранитному, привычному ко всему городу”.
Это высказывание одного из нынешних хозяев российских поэтических владений, емко и точно отозвавшегося на творчество моего бывшего земляка, по–особому греет мне душу. Ведь я–то знаю, как нелегко было Александру Зайцеву завоевать сердца нового “искушенного невского читателя”. И сердцем благодарю поэта, творчество которого знаю и люблю уже четверть века, за то, что он выстоял на холодном невском ветру. Не замкнулся в своем житейском мирке, а вошел в новую жизнь по–хозяйски, с присущим ему азартным огоньком истинного профессионала. “Я себе уже все доказал”, — от лица своего лирического героя заявлял когда–то великий песенник Владимир Высоцкий. Видимо, у каждого свое время на это выстраданное утверждение, ибо в характере любого творца подводить жесткие итоги своей работы. Именно все вновь доказывать себе и новому миру выпало Александру Зайцеву после отъезда в Россию. И он с блеском справился с такой сверхзадачей. Мало того, на мой взгляд, его нынешнее питерское творчество — это ощутимый рывок вперед и ввысь к заметным ярким свершениям, корни которых, по счастью для него и для нас, подпитываются живительными истоками нашего горного края. Образцы нынешней российской лирики Зайцева по–настоящему бесценны. И у нас, и в России.
В этот раз Александр Николаевич приехал в Бишкек повидаться с оставшимися еще друзьями, с сыном и внуками. По традиции зашел в редакции газет, журнала “Литературный Кыргызстан”, оставил свои новые стихотворения для публикации. Сын Николай свозил его на Иссык–Куль, где поэт давно не бывал. А у меня дома мы читали свои стихи, подарили друг другу по три своих новых книги. Честно говоря, я уже давно забыл о таком общении, ибо прочесть что–то свое новое, в принципе, тут давно некому — иных уже нет, а те далече. Теперь новые здешние впечатления наверняка согреют Зайцева в Питере, где, как он сказал недавно, ночью всего пять градусов тепла, и супруга топит печь для обогрева жилища. Наше солнце ведь не забудешь, и дай Бог, чтобы на великой земле наш поэт хранил его в своем щедром российском сердце.
И тогда, уверен, в нем запоют новые вдохновенные строки, которым, возможно, тоже выпадет стать вехами русской поэзии, подобно этим, вошедшим в давно любимое мною стихотворение Александра Зайцева:
* * *
И в час прохожденья парада,
И в дни опаданья листвы,
Наверно, не нужно, не надо
Нам Родине клясться в любви.
Уместнее лишь подивиться,
Что, криком спугнув воронье,
Тебе довелось воплотиться
Под солнцем неброским ее.
Что, с трав обивая росинки,
Случилось в начале пути
Дороги ее и тропинки
Босыми ногами пройти.
Когда же сломается стремя,
И к сердцу подступит беда,
И — ниткой — натянется время,
Вот, может быть, только тогда…
Александр НИКИТЕНКО.
Адрес материала: //msn.kg/ru/news/15041/